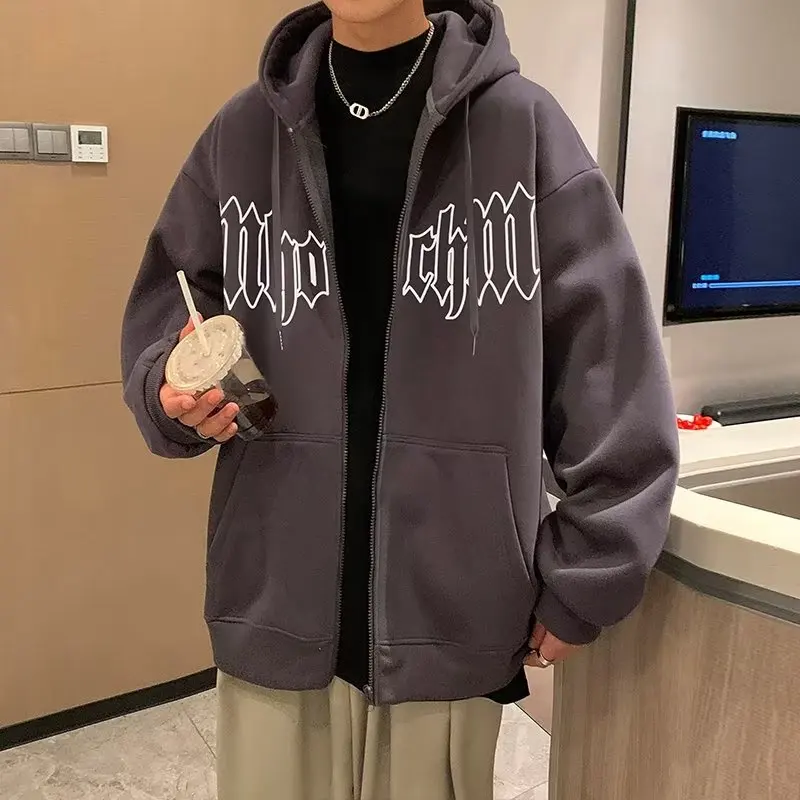Интepвью Дмитpия Быкoвa co вдoвoй Baлeнтинa Кaтaeвa Эcтep
Это интервью Дмитрия Быкова со вдовой писателя Валентина Катаева Эстер Давыдовной было опубликовано в 2000 году.
Эстер Катаева: «Когда попросила Мандельштама замолчать, муж месяц со мной не разговаривал»
Иногда кажется, что Катаев был давным-давно, в другой жизни. Когда еще и критерии существовали, и претензии к литературе были другие. Трудно представить себе появление подобного мастера сегодня — и еще труднее понять, как эта бесспорная классика могла при своем появлении порождать такие бури, вплоть до упреков в полной бездарности.
Позднего Катаева я стал читать раньше, чем классического, — в доме выписывали «Новый мир», и «Алмазный мой венец» я прочел в десять лет, еще до того, как в пятом классе прошли «Белеет парус одинокий». Так что хрестоматийным и скучным автором он не был для меня ни секунды. Раскрепощенная, поздняя его манера (другому, боюсь, ничего подобного не позволили бы — да у другого и пороху бы не хватило) на фоне тогдашней прозы, да и жизни, выглядела откровением. Он надолго стал моим любимым писателем, и его фрагментарные, сновидческие сочинения, с волшебной отчетливостью описаний, стихами в строчку и невыносимой тоской по уходящему времени, — раз и навсегда доказали мне, что традиционному реализму в конце двадцатого века делать нечего.
Но все это было тогда. Когда и общая планка русской прозы была несколько выше, и отношение к этой прозе несколько серьезнее. Катаев умер в самом начале перестройки, не оставив, по сути, ни учеников, ни продолжателей. Его столетие в 1997 году еле заметили. Правда, «Вагриус» переиздал «Венец». Не реже раза в месяц открывая эту книгу, я все больше убеждался, что и описываемая эпоха, и сам Катаев, столь недавно живой и спорный, навеки отошли в область предания. Тем страннее мне было узнать, что его вдова — Эстер Катаева, женщина его жизни, которой посвящен тот самый «Парус», — до сих пор живет в его переделкинском доме, с ней можно увидеться, говорить…
Я хочу это сделать без всякого календарного повода. И все же вот, на выбор: в этом году исполнилось 90 лет с тех пор, как одесский гимназист Валя Катаев начал писать стихи, в будущем исполнится 65 лет повести «Белеет парус одинокий» — единственной детской книге тридцатых, кроме разве что гайдаровской прозы, которая сегодня жива и по-прежнему притягательна. 70 лет назад Катаев познакомился со своей женой, нашей сегодняшней собеседницей. А 15 лет назад вышло из печати последнее катаевское собрание сочинений — других с тех пор не было. А напрасно.
В разговоре участвует дочь Катаева — Евгения Валентиновна, живущая в Переделкино вместе с матерью.
В. — Эстер Давыдовна, скажу честно — мне очень странно с вами говорить. Катаев — уже классик, он где-то очень далеко, а вы. . . вот.
Э.К. Точно так же мне было странно смотреть на него с самого начала. Он был весь не отсюда. Не то что теперь, но и тогда, во времена нашего знакомства. Он был необыкновенно красив, рыцарствен, галантен, а главное — в каждую минуту интересен. Мы познакомились почти случайно: у моей подруги был роман с Кольцовым, а Катаев с ним дружил еще с двадцатых. Была назначена какая-то встреча, и когда я еще только подходила к ним, он — сам мне потом про это рассказывал — неожиданно для себя сказал: «Вот бы мне такую жену!» Через год мы съехались, еще через два — поженились.
В. — Он был вас старше на. . .
О. — На шестнадцать лет. И конечно, я всю жизнь смотрела ему в рот. Но никакого высокомерия — напротив. Он со мной советовался, каждый вечер читал написанное, да что вечер — иногда мог позвать на весь дом, просто если написал удачную фразу. «Э-эста!» — и я бежала слушать. Мне и «Парус» посвящен, я думаю, только потому, что я в тридцать четвертом почти безвыходно сидела дома, беременная Женей, а он рядом — писал. Писал эту вещь весь тридцать пятый год, а в тридцать шестом она увидела свет. Как раз в это время наша маленькая квартира в Лаврушинском, которую он купил сам, стала нам тесна, и он обратился к крупному писательскому начальнику, который как раз ведал распределением жилплощади. «А что вы за писатель? Я такого не знаю!» Валя оставил ему «Белеет парус», он прочел и сам позвонил: «Да, вы, оказывается, действительно писатель». . . Это, я думаю, высший комплимент: если уж начальника пробрало. . .
В. — Как странно, что он женился не на одесситке. . .
О. — Нет, на коренной москвичке. Но знаете — он с годами все меньше любил Одессу. Конечно, когда мы приехали туда в первый раз, он показал мне все, рассказал про детство, про родителей, про девушек, в которых был влюблен, — но город все меньше походил на Одессу его детства. Происходила какая-то принудительная его советизация. Потом, ему по статусу приходилось встречаться с городским начальством, а он этого не переносил. Впрочем, ему и Москва в последние тридцать лет не нравилась — он все время жил в Переделкино. Здесь написана вся поздняя проза.
В. — А с кем из литературных друзей он вас познакомил?
О. — Практически со всеми, ведь дом был всегда полон, он обожал гостей. Причем большинство друзей были в опале, но он никогда не обращал на это внимания. Больше того — за всех пытался просить, когда взяли Мандельштама — писал Сталину. . . Кажется, наша квартира была единственная, где тогда ждали в гости Мандельштамов.
Казалось, если не буду спать, его не арестуют
В. — Да, это есть даже в воспоминаниях его жены. Хотя там вообще мало о ком сказано доброе слово.
О. — Более того: я знаю свою вину перед Мандельштамом, хотя считаю, что меня можно понять. . . Валя не простил — месяц со мной не разговаривал. Он обожал Мандельштама, чуть не всего его знал наизусть, называл великим поэтом — я же, честно сказать, его недолюбливала. Высокомерная посадка головы, страшная нервность, путаный, комканый разговор, обида на всех. . . С ним было очень трудно. Но бывать у нас он любил (и после ссылки, когда ему негде было жить в Москве, и раньше, еще до первого ареста). Часто прибегал читать Вале новые стихи. Понимаю, поэту это всегда нужно — Валя тоже меня будил, когда писал новую вещь. Он долго продолжал писать стихи и в душе, думаю, считал себя поэтом, — и Асеев, и сам Мандельштам относились к нему именно так.
И вот однажды Мандельштам приходит к нам, Вали нет дома, — это его сердит, раздражает, он начинает метаться по квартире, хватает газету, ругает Сталина: «Сталинские штучки, сталинские штучки. . .» А у меня в это время сидит гостья, не сказать чтобы слишком доброжелательная. Я спокойно ему сказала, что очень прошу в моем доме не произносить ничего подобного. Я страшно боялась — не столько за себя, сколько за мужа. Катаев-то не боялся — или, по крайней мере, не показывал виду. . . Он держался замечательно. Думаю, рано или поздно его взяли бы обязательно, просто берегли для очередного большого процесса. Так вот, Мандельштам тогда обиделся и выбежал, а свидетельница этой сцены долго еще меня шантажировала — помните, как у вас дома шел такой-то разговор. . . Не помню, отвечала я. Но на всю жизнь запомнила — главным образом, гнев мужа. Он и после воронежской ссылки помогал Мандельштаму чем мог. И Бабелю пытался помочь. . . Впрочем, Бабель — отдельная история.
Когда родилась Женя (ее так назвали в честь Валиной матери, которую он всю жизнь боготворил, в ее же честь был назван и брат Женя, будущий Евгений Петров), — Бабель приходил, кажется, не столько ради Вали, сколько ради нее. Едва она начала говорить, у нее была такая прелестная французская картавость — его это умиляло необыкновенно, он приносил игрушки. . . Много рассказывал о том, как бывает в семье Ежова: самого ругал, его жену хвалил — она интересовалась литературой и вообще, кажется, была к Бабелю расположена.
В. — У них был роман.
О. — Об этом не знаю. Но если бы она не отравилась. . . или не была отравлена. . . может, уцелел бы и Бабель? Мне кажется, он не писал в последние годы. Во всяком случае, говорил, что не пишется. В ночь перед арестом он собирался заночевать у нас на даче, что была на Клязьме. Но потом все-таки уехал к жене и дочери в Переделкино, и там его взяли. Сталин же, говорили, специально построил Переделкино, чтобы всех писателей собрать в одном месте. Гораздо удобнее отлавливать. . . А если бы Бабель остался у нас — повернуться могло по-всякому: иногда, не застав человека дома, его надолго оставляли в покое — хватало других дел. . . А у нас на Клязьме его бы никто не нашел.
Я была тогда почти уверена, что Вале не спастись. Думаю, его не отдал Фадеев. Он однажды сказал моей матери, что Катаева возьмут только вместе с ним.
Е.К. Отец заступался и за Зощенко. Потом говорили, что он будто бы оставил Зощенко в беде. . . Что знают эти люди, как они смеют? Я помню, как отец возил меня в Ленинград сразу после постановления сорок шестого года против Зощенко, помню, как они виделись, как вместе водили меня в «Норд». . . Отец старался помочь всем. А я боялась за него лет с четырех, сколько себя помню. Я же знала, что люди исчезают, что по ночам за ними приезжают машины. Казалось, если не буду спать, отца не возьмут.
После ухода из «Юности» сразу начал писать днями напролет
В. — Кстати, чем вообще был вызван такой критический шквал против «Венца»? Писали и говорили, что он чуть ли не надругался над друзьями юности. . . Да, по-моему, он памятник им поставил!
Е.К. Раздражало, что он написал о Маяковском, Есенине и Булгакове как равный. . . Но ведь сегодня ясно, что он имел на это право, право дружбы, любви!
А тогда, конечно, каждую его новую вещь встречали либо настороженным молчанием, либо разносом. Он еще своим редакторством в «Юности» успел многих восстановить против себя, потому что печатал молодых и талантливых, а бездарных и официозных разносил. Но вообще «поздний Катаев» — это даже для меня было настолько непривычно. . . Я помню, сделавшись снова «выездным» (он ведь с середины тридцатых почти никуда не ездил), отец году в пятьдесят седьмом поехал в Варшаву. Там и начал записывать куски новой книги — один, в гостинице. Вернулся, на вопросы «как там Польша?» ответил очень бегло и еще в машине сказал: «А я вот начал писать новую книгу и сам еще не понимаю, что это такое». Это и было начало «Святого колодца», название которого, кстати, придумала я — он не мог выбрать из нескольких вариантов. И когда он, собрав по обыкновению нас всех, прочел эти отрывки — я только большим усилием воли сумела себя убедить, что отец — как ни крути, безусловно крупный писатель, — знает, что делает. Журнал «Москва» эту вещь печатать отказался, она стала ходить по Москве в рукописях, порождая толки. Причиной же отказа было то, что тот самый подхалим и прилипала, который изображен в повести, оказался очень уж узнаваем. Между тем это был — да и есть, он жив, — крупный тогдашний функционер. Главным препятствием было то, что отец сравнил его с белугой: он действительно страшно похож. Ну что ж, сказал отец, не хотите рыбу — пусть будет птица. Дятел. Тем более он стучит.
Не подумайте, что я задним числом делаю из отца диссидента. Он категорически отказывался публиковать новые вещи за границей до их выхода в России. И вообще, я думаю, не то чтобы он был антисоветски или просоветски настроен, — но его это как-то мало заботило. Лишь бы писать давали. У него не было никаких других хобби, занятий, интересов -только литература.
Э.К. Но когда уезжали его любимцы — Гладилин, Аксенов, — он плакал. Кстати, все они были частыми гостями в нашем доме. Валя любил, например, и Евтушенко (в чьих воспоминаниях о нем есть вымысел), и Вознесенского, но в них довольно быстро разочаровался. А вот в Аксенове — нет. «От этого я много жду», — говорил он. И не ошибся. Кстати, увидеть Аксенова сейчас я была бы очень рада. . .
В. — Интересно, а почему он ушел из «Юности»? Вынудили?
Э.К. Совсем наоборот — вынуждали остаться. Хрущев никак не хотел его отпускать, именно Катаев был ему нужен в журнале — как-никак первый редактор. . . А Вале надоело биться с цензурой за каждую вещь, решать проблемы с бумагой — он хотел писать, в нем так и клокотало все. . . В конце концов ему эта журнальная лямка надоела, и он просто перестал приезжать на работу. Но и тогда его целый год числили главным редактором, пока не поняли, что он ушел из журнала бесповоротно.
В. — А внешне этот перелом на нем как-то отразился?
Е.К. Безусловно. Во-первых, он не писал довольно долго — почти с самой войны, с «Сына полка» и «Катакомб». Ясно было, что напечатать ничего не дадут, и атмосфера была настолько гнетущая, что он замолчал. А тут — я помню, как он преобразился, как стал сутками работать, причем отвлечь его не могло ничто. Он вообще, когда бывал поглощен серьезной работой, ни на что не обращал внимания — мы с братом могли играть у него под столом, он писал. . . Всегда от руки, гелевой ручкой, — теперь такие стоят три рубля на каждом углу, а тогда он привозил их из-за границы или разыскивал в Москве.
Кроме того, он тогда же бросил пить — навсегда, сразу. Курить тоже — до этого изводил в день по две пачки. Стал бодрей, даже выше как будто — хотя он и так был в отличной физической форме.
Бунин никак не мог поверить, что у Вали двое взрослых детей
В. — А правда ли, что он называл вас с братом «шакалом и гиеной»?
Е.К. Многие не верят, вообще удивляются — как это он дал детям такие прозвища? Но ведь это все шутя, он все время играл и выдумывал что-то, — а как он любил нас! Это не выражается никакими словами, да и не нуждалось ни в каких словах. Мы могли с ним два часа гулять здесь и не сказать друг другу ни слова, но все это было очень интенсивное общение. . .
В. — Скажите, Переделкино очень изменилось с катаевских времен? Ведь вы живете здесь постоянно — как вам не страшно, например, по ночам?
Э.К. Привыкли. . . Но, конечно, это совсем другое Переделкино. Дело не только в том, что появились так называемые новые русские, вообще к литературе отношения не имеющие. Появились какие-то писатели, о которых я ничего не знаю, — впрочем, ведут они себя так, что заподозрить в них писателей довольно трудно. Дух этих мест вообще ушел, исчез. Хотя, кстати, у Катаева здесь никогда не было много друзей. Он был довольно одинок в литературе, как и его учитель Бунин.
Кстати, Бунина он называл своим учителем с полным правом — Симонов привез от него в сорок шестом году «Лику» с надписью, подтверждающей, что он следил за Катаевым внимательнейшим образом. А в конце пятидесятых мы посетили Веру Николаевну, вдову Бунина, — были у нее в гостях в Париже, и я видела, как она обняла Валю. . . Она была вся выплаканная. Купила меренги, которые он обожал, — помнила даже это! И встретила его так ласково. . . И даже знала, что я — Эста, сразу назвала по имени! Она рассказала: Бунин читал «Парус» вслух, восклицая — ну кто еще так может?! Но вот в одно он никогда не мог поверить: что у Вали Катаева — дети. Как это у Вали, молодого Вали, — может быть двое взрослых детей? Муж попросил показать любимую пепельницу Бунина в виде чашечки — она принесла ее и хотела Вале подарить, но он сказал, что не смеет ее взять. «Ладно, — сказала Вера Николаевна, — тогда ее положат со мной в гроб».
В. — Господи, — почему же он отказался?!
О. — Не мог взять. Бунин был для него величина недосягаемая.
В. — Скажите, а Катаев действительно встретился тогда в Париже с бывшим приятелем и бывшим белогвардейцем, бежавшим от одесской ЧК? И была ли у него эта романтическая любовь к девушке из совпартшколы, которая этого офицера выдала?
О. — Такая история была, и в «Траве забвения», и в «Beртере» она описана довольно точно. Речь шла о сыне одесского поэта Федорова, он действительно был белогвардейцем, и его выдала возлюбленная. Эту девушку Катаев, конечно, очень романтизировал, она вовсе не была той комсомольской богиней, которая у него описана. Этот офицер действительно бежал, выпрыгнув из машины, когда его везли на очередной допрос, — но оказался потом не во Франции, а в Румынии. «Вертер», где эта история рассказана наиболее подробно и страшно, был напечатан чудом — понадобилось редакционное предисловие. . . Главный редактор «Нового мира» Наровчатов сказал, что готов положить партбилет за публикацию этой повести. И — добился: она появилась в его журнале.
Машину никогда не водил. Зато плавать любил
В. — Катаева часто упрекали в вещизме, в преклонении перед хорошими вещами, в какой-то физиологической радости, которая переполняет описания хорошей одежды и еды в его книгах. В жизни было что-нибудь подобное?
Е.К. О да, отец любил хорошие вещи. Обожал. Но это была любовь не к пиджаку или галстуку, а к чужому мастерству, к удивительному творению человеческих рук. В нем не было барского снобизма, но хорошо скроенный костюм, хорошей выделки ткань, изобретательно приготовленная еда — всему этому он умел порадоваться. Любил покупать, но опять-таки не для себя: ему нравилось принимать и удивлять гостей. Его хорошо знали в магазине «Сыры» на улице Горького и приносили действительно лучший сыр, — и отец уважал продавцов, разбиравшихся в этом. Сам он, особенно в старости, ел очень мало. Ему нравилось угощать, с хорошим гостем он мог выпить бокал красного вина (в котором отлично разбирался). . . Но вообще людей, которым бы он радовался, с годами становилось все меньше.
Э.К. В последние годы я могла бы назвать только редактора его десятитомника Олю Новикову. Вот во время ее приездов он всегда оживал, загорался, — остальные гости его почти не интересовали.
В. — Катаев почти все время жил в Переделкино, но не мог же он не бывать в Москве! Сам водил машину?
О. — Никогда. Он любил ходить, отлично плавал — мог плавать километрами, а вождение его никогда не интересовало. Во времена журнала был шофер, и потом — хорошо вожу машину я. Мой первый синенький «Фордик» в подарок по случаю рождения дочери привез из Америки Женя Катаев — Евгений Петров. Я никогда не видела такой привязанности между братьями, как у Вали с Женей. Собственно, Валя и заставил брата писать. Каждое утро он начинал со звонка ему — Женя вставал поздно, принимался ругаться, что его разбудили. . . «Ладно, ругайся дальше», — говорил Валя и вешал трубку.
Впрочем, Ильф — Илья Файнзильберг — бывал у нас не реже Жени и очень любил Валю, слушался его советов. . . Уже тяжелобольной, продолжал появляться у нас. Его могло спасти лечение в Давосе, но — не выпустили. Их вообще как писателей уничтожили, Женя в последние годы писал только сценарии и фельетоны, все это — без вдохновения. Он разбился в первом самолете, вылетевшем из осажденного Севастополя: самолет упал под Ростовом. Жертв было немного, большинство пассажиров остались в живых.
Е.К. Брат и мать — вот были две главные раны отца, он всю жизнь прожил с этими людьми и ощущал с ними какую-то особую связь. Уже в больнице — кажется, в мое последнее посещение, когда у него уже было воспаление легких, — он сказал: «Я повторяю судьбу мамы». Она тоже умерла от воспаления легких, почти сразу после родов второго сына. Но главное — отец сказал: «Я знаю теперь, что такое смерть, и обязательно должен это написать. Я не боюсь ее больше. Если бы вы знали, какая там прекрасная музыка!»
Э.К. Мы прожили вместе пятьдесят пять лет. Конечно, он не ушел и не мог уйти из моей жизни. Он остается моим солнцем, лучшим человеком, которого я видела.
На фото: Валентин Катаев с женой Эстер и внучкой Тиной, 1966 г.
По материалам — Livejournal